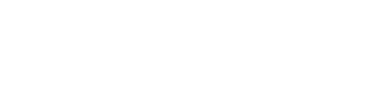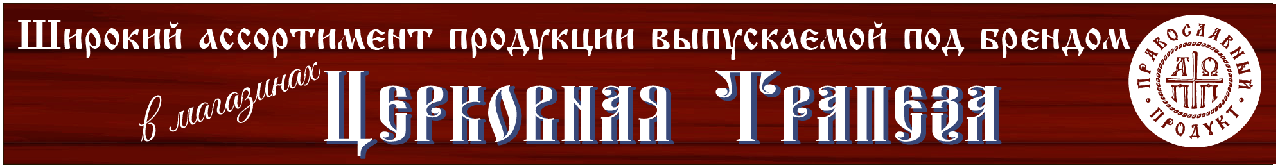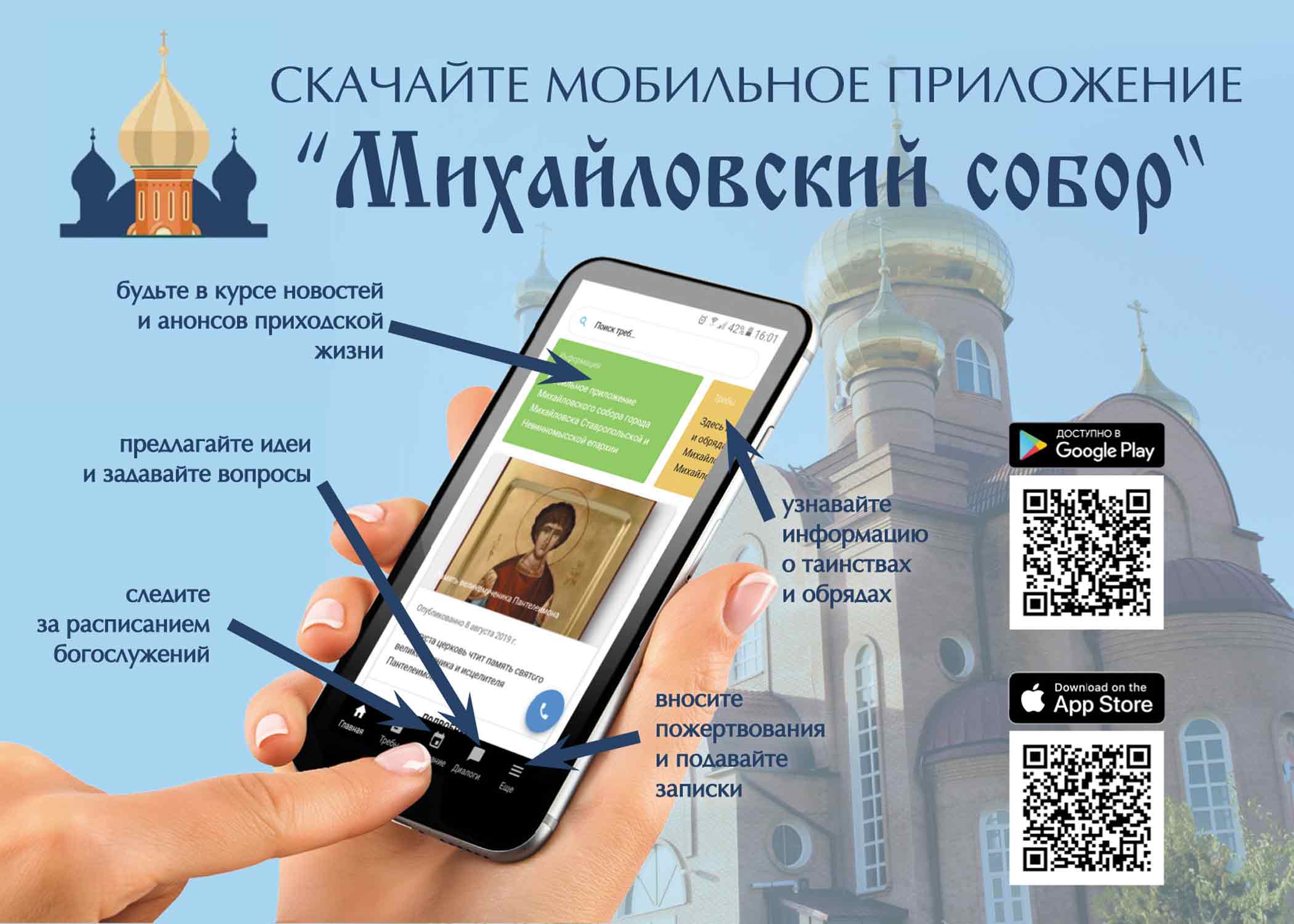Путь служения Богу
Елена АНОХИНА
Были ли в вашей жизни мгновения, когда вы любили Бога и весь мир, Им созданный, безраздельно, так радостно и чисто, что хотелось обнять и небо, и землю, и всех живущих на ней? И благодарить Создателя за все благодеяния, на нас изливаемые…
За этот рассвет, за воду и хлеб, за возможность молиться, каяться и причащаться Святых Христовых Таин. Мне кажется, что это хоть раз испытал каждый верующий человек. Тем более тот, кто отдал всю свою жизнь без остатка одному только Богу, – монах. И чьи чувства обострены и глубоки.
Слово «монах» – от греческого «μόνος» (одиночный, уединенный). В нашем языке есть синоним этого слова – «инок» (другой, инаковый). А зародилось монашество в начале Новой эры в Египте, бывшем тогда одной из провинций Восточной Римской империи.
С тех пор, несмотря ни на что, этот путь служения Богу, когда душа-христианка сочетается Господу и одному Ему обещает верность, не прерывался. По словам святителя Феофана Затворника, «Бог да душа – вот и весь монах». И неважно, тысячу лет назад или сейчас. Ведет ли келиотский (особножительный) или общежительный образ жизни. В пустыне, в скиту, в монастыре или на сельском приходе…
Главное – «ходить пред Богом», от избытка любви и сострадания молиться за весь мир, достигая внутреннего безмолвия и покоя.
Во многих отечниках можно прочесть о стакане, наполненном мутной водой. Постоит он некоторое время, и вся муть осядет, сверху останется слой чистой воды. Почти то же самое происходит и с душой человека в уединении. Для достижения такого состояния кому-то нужно просто закрыть дверь кельи.

Когда я напомнила иеромонаху Павлу (Дудорову), насельнику мужского монастыря Святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Светлограда, о его юбилее, батюшка искренне удивился: «Ну не мне же сорок лет!». Потому что тот, кто родился сорок лет назад, умер для мира.
Конечно, дар жизни бесценен и за него надо благодарить Бога. Но есть еще и духовное рождение.
Во время монашеского пострига человек, в каком бы возрасте он ни был, рождается заново. Получает другое имя, облачается в новую одежду. Принято считать, что, как и в Таинстве Крещения, ему прощаются все грехи.
Поэтому о прежней жизни говорить мы не стали. Речь пошла о выборе пути служения Богу – того, неотмирного.

О монастырях и старцах
– Беседуя со студентами Ставропольской духовной семинарии, всегда говорю: хорошо подумайте, проверьте себя, прежде чем принять постриг, – говорит отец Павел. – Может, лучше стать женатым священником. Ведь главное – спасение души. Богу верность хранить.
А монашество – путь особенный, не для всех. Не в том смысле, что монахи лучше других. Начнем с того, что человек должен испытывать тягу к одиночеству, уединению. Если скучно наедине с собой и с Богом, а молитвенное делание не захватывает на долгие часы, так что и времени не замечаешь, то это не твой путь.
Не надо воспринимать монашество и как бегство от проблем – они остаются, только в другом обличье. И когда после возвышенных чувств пострига подступают искушения, именно Господь, если призвал тебя Он, а не самость или чьи-то неуклонно-неразумные человеческие советы, дает силы преодолевать трудности.
Без Божией благодати никто не смог бы понести трудности и лишения и стать духовным воином. Самое главное влияние, стимул укрепиться в выборе монашеского пути оказывают жития святых. Чтение жизнеописаний, например, преподобного Серафима Саровского и других святых отцов.
Важно также благословение правильного духовного наставника из ныне живущих, желательно опытного монаха, старца. Он может не сказать тебе прямо, как поступить, но ты сам поймешь. И после такого благословения все сопутствующие этому особенному пути искушения преодолеваешь не так тяжело, без серьезных потрясений.
Само явление старчества – не от людей и их желания, а от Бога. Как у Оптинских старцев, например, или у батюшки Серафима, или у Глинских старцев, или в Псково-Печерском монастыре. И не по своей воле являют они себя миру.
Когда архимандрита Кирилла (Павлова) спросили: «Есть ли в вашей лавре в Сергиевом Посаде старцы?», он ответил: «Стариков знаю, старцев – нет». И это не игра слов и не игра в смирение, а ясное осознание своей немощи и спасительной силы Божией.
Сила монашества – в преемстве правильного духовного руководства и опыта спасения, идущего от первохристианских времен. Но, еще раз повторю, выбор – быть монахом или нет – связан именно с личным желанием человека.
В 2000 году настоятель Нижегородского Благовещенского монастыря перед постригом, который совершал митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай, сказал мне: «Ты можешь сейчас отказаться, и никто не осудит. Все тебя поймут». Я ответил, что выбор свой сделал.
И все же благодарен настоятелю за эти мудрые слова, которые стали для меня чертой, которую я сам перешел, не оглядываясь назад. Хотя знал одного священника, которого старец благословил идти в монастырь, а тот поступил по-своему – женился, стал пастырем, у него родились дети. Прожил достойную жизнь, ревностно служил Богу и почил в старости.
Но у всякого женатого священника остается возможность впоследствии принять монашество. А у монаха, произнесшего перед Богом и святыми ангелами священные обеты нестяжания, безбрачия (целомудрия) и послушания, обратной дороги нет.
«Пождание» в этом выборе необходимо, как пишут Оптинские старцы. «Пождать» (или подождать) – значит не спешить, а там Господь управит.
Насильно Бог никого не направляет на тот или иной путь. Надо быть честным с самим собой, и если у тебя есть какие-то раздумья или сомнения, то лучше оставаться добрым христианином в миру, чем плохим монахом в монастыре.
Как отличить того, кто склонен выбрать путь монашества? Есть такое выражение: прежде чем стать монахом в монастыре, надо стать монахом в миру. Среди студентов семинарии заметны «монахолюбцы», они с радостью общаются с монашествующими.
Причем такая склонность не зависит ни от психотипа, ни от характера. Сейчас такая жизнь: в затвор не уйдешь, и монах должен уметь правильно общаться с людьми.
Монашество и белое священство схожи тем, что и там, и тут нужно уметь наладить жизнь, контактировать: женатому – с супругой и ее родными, с прихожанами, монаху – с братией. Во всем же помогает Сам Господь Своей благодатью, которая «немощная врачует» и «оскудевающая восполняет».
Монашество, как я прочла в церковной литературе, – это образ жизни, наиболее приближенный к тому узкому пути, о котором говорит Господь (Мф. 7, 13-14; Лк. 13, 24). Мужчина, принявший монашество, может сподобиться стать священником, и тогда его служение будет носить пастырский характер.
А женщина, принявшая постриг, остается монахиней, впрочем, как и мужчина-монах, не возведенный в духовный сан. Но при этом и священствующие, и простые монахи претерпевают Божией милостью то глубинное, сущностное изменение души, которое возможно постичь только тому, кто принял постриг.
– Если говорить о градации в монастырях, – продолжает батюшка, – то она была и в прежние времена. Человек, только что пришедший в монастырь из мира, называется бельцом. Если он остается в монастыре, то становится трудником (из названия понятно, чем он занимается).
В Валаамском монастыре, например, на трудника надевают черный халат, и тогда он именуется халатником. Так человек постепенно входит в организм монастыря, наблюдая жизнь в нем и испытывая себя, проходя определенный искус.
В русских монастырях такой период длился три года, если же кто-то пришел из семинарии, то меньшее время – человек ведь уже показал себя как студент духовной школы. Следующий шаг – трудник (халатник) становится послушником и получает право носить подрясник. Он продолжает испытывать себя, окормляется у духовника или кого-то назначенного из братии, кто сможет наставлять в духовной жизни. Послушник может передумать становиться монахом, и ничего страшного в этом нет. Называется послушником потому, что, живя в монастыре, выполняет различные послушания.
Игумен, видя усердие и твердость намерения, может благословить его на ношение рясы и клобука, чтение определенных молитв. Согласно постановлению Синодального отдела по монашеству, в таком случае насельник обители является не иноком, а рясофорным послушником.
Называть его следует братом, а не отцом, так как обеты он еще не давал. Далее по благословению правящего архиерея и настоятеля монастыря рясофорный послушник принимает постриг, отрекается от мира, дает обеты девства (целомудрия), нестяжания и послушания.
Новоявленному монаху крестообразно постригают волосы на голове и могут дать новое имя (в паспорте оно остается прежним). Мне при постриге имя не меняли – владыка Николай считал, что нужно не имя менять, а жизнь. Такой постриг называется еще малой схимой, а монах – мантийным, отрекшимся от своей воли и от всех мирских пристрастий.
На него налагается параман – плат в виде креста, который носится под подрясником. Теперь монах до конца жизни должен оставаться в том монастыре (кроме особых случаев), где принял постриг, и соблюдать правила – внутреннего трезвения и внешнего поведения.
Совершающий постриг дает монаху особого духовного наставника для руководства. Но остаться простым монахом есть возможность только у насельников монастырей с многочисленной братией.
Сейчас, как правило, следует принятие диаконского сана – первой степени священства. Так монах становится иеродиаконом, а после хиротонии во священника – иеромонахом, потом может стать игуменом, архимандритом и наконец епископом.
Великая схима – высшая степень монашеского подвига с полным отречением от всего, кроме молитв и богомыслия, и особым укладом жизни в обители. Келья схимника по возможности находится в стороне от келий братии. В старину схимники давали обеты затвора или полного молчания (в подражание пустынникам).
По слову преподобного Силуана Афонского, молитвы, возносимые монашествующими за людей, ценнее пред Богом многого из того, что люди совершают в миру для пользы ближних.
В женском монашестве тоже есть иночество, монашество и схимничество. Из административных должностей в женских монастырях – настоятельница (носит крест поверх монашеского одеяния), казначея, благочинная и другие.
И духовница, поставленная на это послушание духовным руководством через архиерея, как правило, схимонахиня. Есть также прислуживающие в алтаре матушки, обычно в преклонном возрасте, но бодрые и крепкие телесно, что позволяет им помогать священнику в совершении богослужения. Это, мне кажется, одно из самых высоких послушаний.
Духовную основу становления монастыря задает настоятель. Все совершается с его благословения. «Какой поп, такой и приход». Каков настоятель, таков и монастырь.
Есть обители с давними устоявшимися традициями. Например, в Республике Мордовия есть Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, там традиции устойчивые и в совершении богослужения и правила, и в пении (знаменный распев).
Как одна семья не похожа на другую, так и монастыри разнятся. В Троице-Сергиевой лавре – свои особенности, свой устав взаимоотношений братии. Но при этом в каждой обители братия служат Богу и духовно помогают друг другу. Это главное, ведь ради спасения они и приходят в монастырь.
Как в семье: если кто-то немощь имеет, остальные помогают ему преодолеть ее, вразумляют. Говорят, полная семья способствует лучшему формированию человека. Так и в монастырях, когда есть опытный монах, любящий молитву, не показывающий: я – старец, а просто желающий помочь, потому что есть у него дар рассуждения, это очень хорошо.
Если братия будут его слушаться, они будут близки к спасению. Это мы видим на примере Псково-Печерского монастыря: архимандрит Иоанн (Крестьянкин) много полезного сделал для обители, среди учеников старца есть настоятели и правящие архиереи, в частности, митрополит Псковский и Порховский Тихон. «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16).
Конечно, есть труды, например, аввы Дорофея, есть «Алфавит духовный», «Отечник» святителя Игнатия Брянчанинова. Но можно прочитать горы книг и не понять сути. Вроде все написано правильно, ты пытаешься это исполнить, а ничего не получается. В чем проблема?
Вот когда нужен совет мудрого человека, но без общих, дежурных фраз («молись, брат, постись, делай поклоны»), а конкретно, на что обратить внимание в духовной жизни. Причем этот человек может жить и в миру.
Знаю одну женщину-хирурга: заходит очередной пациент на прием, садится на стул, а она уже знает, чем он болен. Если врач настоящий, от Бога, у него особое внимание и интуиция, он чувствует, считывает информацию по походке и другим внешним признакам. Ничего необычного в этом нет.
Священник, врач, учитель… Когда человек стремится знать и выполнять свое дело качественно, он сможет достичь больших высот в общении с людьми, чтобы лучше помогать им. К хорошему врачу (хирургу, ортопеду и так далее) пойдут люди, имя его на слуху.
Но все это налагает большую ответственность и осознание всей серьезности той деятельности, которой человек посвятил свою жизнь.
Духовничество
– Что до моего отношения к духовному окормлению и назиданию прихожан, то дерзаю называть себя духовным отцом только маленьких детей, с которыми встречаюсь, беседую, молюсь за них, – объясняет отец Павел. – И это правильно даже по моему возрасту, по, так сказать, возрастным параметрам.

А для людей взрослых, старше или даже ненамного младше меня, могу быть только в хорошем смысле слова другом, советчиком. В беседе выслушать их и попытаться найти общий знаменатель, понять жизненную ситуацию, в которой оказался человек, его духовные борения и проблемы.
Когда не знаю, что посоветовать, так и говорю: «Не знаю». Молюсь о таком человеке и прошу у Господа помощи для него. И если Он помогает, слава Богу! Не моя заслуга.
Читающим эти строки советую быть осторожнее при выборе духовного наставника. Ищите рассудительного, внимательного к вам человека, и необязательно в священническом сане. Он может быть и мудрым светским, но непременно глубоко верующим человеком.
Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что мирянин должен испытать духовного отца. Да и самому священнику, которому поручено духовное руководство и попечительство о прихожанах, нужно внимательно смотреть, как они к нему относятся.
Если кто-то со слащавым восторгом и экзальтированностью, надо сразу строго и твердо пресекать это. Бывает даже, что исповедуемый пытается манипулировать священником. В конечном итоге выбор за вами, к кому идти на исповедь и о чем спрашивать.
Считаю правильным такое состояние наставляющего: «Ты можешь меня послушать, а можешь не слушать. Есть Евангелие, все в нем написано. Есть Господь, Которому ты дашь отчет». Такой подход полезен и для того, кто исповедуется, и для того, кто исповедует. Нам всем спасительно держать дистанцию.
Ведь лукавый может ситуацию перевернуть, еще что-то сделать во вред душе. Надо глядеть наперед. А от тех батюшек, которые категорично советуют, подавляя ваш выбор: «Продавайте корову!» или: «Разводитесь!», надо уходить.
Нет, не осуждать! У них свой выбор, за который они сами и будут отвечать пред Богом. Это вопрос осторожности. Вот сейчас пандемия коронавируса, мы же осторожны – надеваем защитные средства, соблюдаем санитарную дистанцию. В общем, доверяй, но проверяй.
В наставничестве следует не властвовать над человеком, а понимать и поднимать его, говорить: «Ты достойный христианин, у тебя получится. Ты справишься, все будет хорошо». И радоваться его духовным достижениям, скромно оставаясь в стороне.


Есть еще один момент священнического служения, и не только монаха. Вот старушка подходит к тебе и жалуется, что у нее что-то болит. Но не за каждым болезненным состоянием стоит духовная причина. Соболезнуя человеку, успокой его, а потом посоветуй проверить давление, сделать анализ крови, обследоваться.
Хорошо бы всем священникам обладать минимумом медицинских знаний, чтобы знать, например, как говорить с тем, кто духовно страждет, а как – с психически больным человеком, которому необходима медицинская помощь.
О радости
– Мирские люди смотрят на нас, верующих, особенно во время Великого поста, и говорят: «Что вы ходите как буки, грустные и печальные?» – делится наблюдениями мой собеседник. – И в этом есть свой резон.
Признаком начинающегося выздоровления души, как говорит преподобный Петр Дамаскин, является видение своих грехов – как песок морской. Конечно, как я буду улыбаться, если вижу все свои недостатки?
Человеку неверующему это самовоззрение неведомо. Ему хорошо, особенно если его никто не трогает. Но уж если обидят, баш на баш – зуб за зуб, глаз за глаз. Ответит, и снова ему хорошо и спокойно. А те, кто ходят в храм, видят свои грехи.
Дальше что? Как справиться со своими слабостями? Как сохранить великодушие по отношению к себе и к другим? Как победить в этой жестокой борьбе со страстями, с самим собой, как учат святые отцы: «Даждь кровь и приими дух»?
Сейчас многие люди из-за пандемии лишены святого причастия и скорбят: страсти одолевают их, уныние. Светским людям этого не понять, они Таинства Причастия не знают. И Пасха в этом году была с оттенком печали для многих людей.
Конечно, нужно хранить доверие Богу. Господь и тем семьям, которые остались дома смотреть перед иконами трансляцию праздничного пасхального богослужения, подарил радость.
Преподобный Серафим Саровский говорит: «Кто в мирном устроении ходит, тот почерпает духовные дары». Вот он – выход: вижу, что грешен, немощен, слаб, «чувствую свое окаянство», но приступаю к причащению, и Господь очищает, убеляет, изменяет. Это может произойти и через молитву, с которой мы обращаемся к Богу.
Когда же человек приступает к Таинству Причастия в немирном состоянии души, приобщение Святых Христовых Таин может помочь, однако привычка находиться в меланхолии как неразумной печали доводит его до такого состояния, что он отучается благодарить Бога и за причастие, и за все благодеяния Его. И за скорби, что очень важно. Вот это страшно!
Тогда благодать отходит, и страждущий опять не понимает, что происходит, «пробуксовывает»: от чего ушел, к тому и возвращается. Как грибник без компаса, заблудившийся в лесу, идет вроде прямо, а на самом деле делает большой круг (потому что одна нога у всех нас чуть короче другой) и возвращается в то же самое место…
Чтобы этого не происходило, чтобы путь наш был прямым, надо присматриваться и прислушиваться к своему состоянию, к своей внутренней памяти.
Недаром святые отцы, наставляя своих учеников, советовали: «Делай так-то и так-то и будешь спокоен, будешь в мире». Первые слова мирной ектении на богослужении в храме об этом говорят: «Миром (εν ειρήνη) Господу помолимся». Не всем миром (то есть всем вместе) надо молиться, как учил русский классик Лев Николаевич Толстой, а – во внутреннем мире души, который надо отличать от внешнего мира (ο κόσμος).
Кому-то это покажется невозможным, кому-то – слишком простым. Но сохранять мирное состояние души очень важно. На что-то не обращать никакого внимания, но если что-то нас действительно задевает, не копить в себе в ложном терпении, а сразу обращаться в молитве к Богу: «Господи, прими мою проблему и исправь все!» – и снова возвращаться в мирное внутреннее состояние, благодаря Спасителя за все. И помощь свыше придет.
И память у нас тогда будет не злой (злопамятность), а наоборот – мирной, несмотря на ошибки, которые есть у всех. Диавол много через память вредит нам и возвращает к прошлым грехам.
И еще. Читайте святое Евангелие и толкования святых отцов. Потому что Евангелие – это жизнь. В нем все.
То, чем мы заняты, наши внутренние помыслы, что накопим в нашей памяти, с тем богатством или безобразием в душе и придем в вечную жизнь. Это я говорю и себе, потому что уча – учусь. Наставляя других, в первую очередь, говорю себе: читай Евангелие!
________________________
Слушая запись беседы с иеромонахом Павлом (Дудоровым), насельником мужского монастыря Святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Светлограда, и раздумывая о том, как закончить эту статью, наткнулась я на интересные высказывания о монашестве.
Например, современного русского православного публициста, педагога, доктора богословия, профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова: «Монашество – это характер жизни. Какой жизни? Максимального отречения от всего того, что мне не требуется в прямой необходимости, и максимального внимания к молитве, чтению Слова Божия, покаянию, познанию себя, благодарению Бога».
Да, монашеская братия внимает себе: «Стали ли мы такими, какими хочет видеть нас Господь? Стараемся, трудимся, подвизаемся и будем подвизаться до конца своей монашеской жизни, но плоды наши будет оценивать Сам Господь».
Но нам-то, мирским людям, монастыри кажутся подобными светочам, которые издалека светят людям, привлекая всех к своей тишине, по слову святителя Иоанна Златоуста.
Как писал Федор Михайлович Достоевский, человеку, который живет в неправоте, несправедливости, важно знать, что живет где-то правда. А святой Иоанн Лествичник, игумен Синайского монастыря, сказал: «Свет монахов суть Ангелы, а свет для всех человеков – монашеское житие; и потому да подвизаются иноки быть благим примером во всем» (Слово 26:31).
И мне добавить к этому нечего.